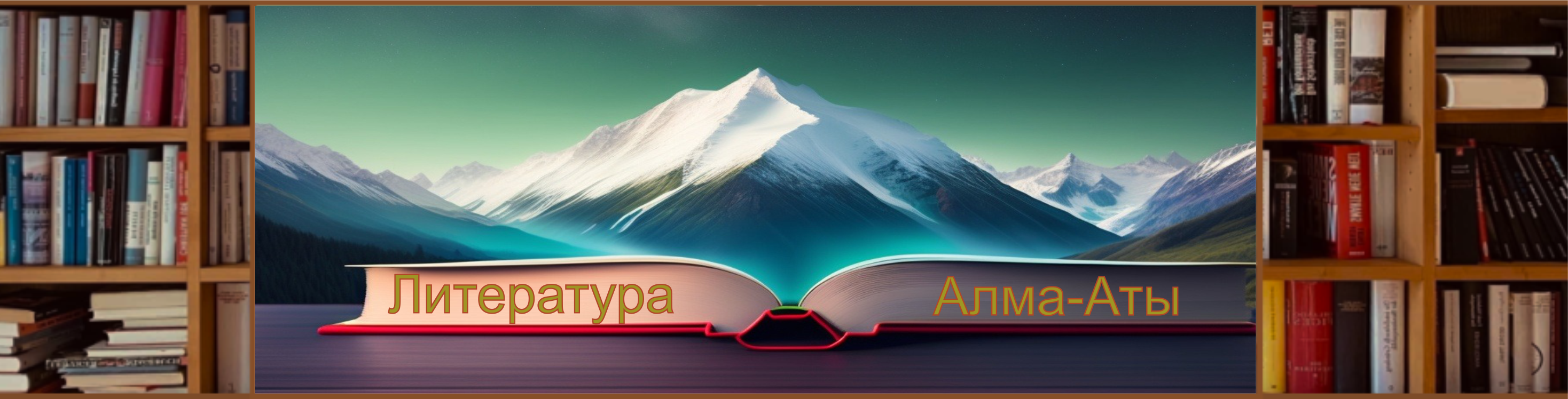Рецензенты Александр Жовтис и Рашида Зуева (как говорят евреи, «да пребудут их души в Ганн Эдене!») пытались предостеречь Олжаса от чрезмерных перехлёстов в оценках. К тому же, собственно, стремился и я, стараясь убрать налёт фельетонности, особенно в заключительных, наиболее публицистичных главах. Например, Олжас включил было в рукопись свой фельетон «Пробный камень», опубликованный в «Комсомолке» и вызвавший ярость у аксакалов из Академии наук. Фельетон, слава Богу, был убран из книги, как не соответствующий духу и стилю столь солидного исследования, хотя копий было сломано немало.
Книга для редактирования была очень сложной. Не говорю уж о том, что редактировать её следовало бы специалисту – лингвисту и литературоведу. Не так–то просто было выверить и по всем издательским правилам оформить многочисленные цитаты из литературных памятников, многие из которых редактору были просто недоступны. Положа руку на сердце, могу сказать, что к работе я отнёсся в высшей степени ответственно. Парадокс, правда, заключался в том, что первые недели две после того, как я приступил к редактуре (а она длилась потом 9 месяцев!), меня почему-то не подпускали к Олжасу. Все свои замечания я передавал через заместителя главного редактора «Жазушы» Геннадия Ивановича Толмачёва и зав. русской редакцией Алтыншаш Каиржановну Джаганову. Но работа пошла настолько всерьёз, было её невпроворот, и от этой мелочной опеки вскоре, благодарение небесам, отказались, я получил прямой доступ к автору.
Работал я с увлечением, было всё это безумно интересно. К слову сказать, нагрузка у нас – редакторов, была очень большая, порой приходилось вести до десятка рукописей, авторы встречались привередливые. Так вот рабочее общение с Олжасом было весьма корректным и вопреки его твёрдому характеру почти по всем спорным пунктам удавалось прийти к обоюдному соглашению.
Дабы внести полную ясность, скажу, что для меня отправной точкой работы над книгой были слова из аннотации к ней: «Жанр её можно определить так: история глазами поэта. Выводы книги побуждают к спору. Отдельные положения её дискуссионны». То есть «Аз и Я» ни в коей мере не претендуют на истину в последней инстанции. Повторю ещё раз: «история глазами поэта». Всё предельно ясно. И для меня до сих пор является загадкой: отчего учёные мужи и вся гос.машина всей мощью своей обрушились на книгу и её автора. Ну, а виноват, как всегда, сами знаете кто: стрелочник.
К чести Олжаса должен сказать, что в беде меня он не оставлял, принимая участие в моей нелёгкой литературной судьбе, да и человеческой тоже. Уж не помню, по поводу какой бумаги, в очередной раз подписанной им в защиту моего многострадального романа (я девять лет добивался его издания!), на мой вопрос, что делать дальше, он сказал: «Иди домой и жди. Реакции, – тут же глаза его сузились, он не мог отказать себе в удовольствии отлить пулю. – Жди разгула реакции».
Книга катком прошлась по судьбам многих. Я не знаю, какие санкции были применены к председателю Госкомитета по печати Шериаздану Рустемовичу Елеукенову, его, помнится, сместили на какое-то время с занимаемой должности. Алтыншаш Джагановой и Геннадию Толмачёву, по–моему, влепили строгач с занесением в учётную карточку. Алтыншаш «задвинули» на время редактором в газету «Друг читателя», Геннадия понизили до должности главного редактора газеты «Огни Алатау». Самого же Олжаса принудили к публичному покаянию. В «Казправде» (19.03.77) появилось небольшое письмо за его подписью, где в частности сказано: «Нельзя не согласиться с теми выводами, которые напрашиваются из моих неточных и ошибочных положений». Как пишет Геннадий Толмачёв в статье «Буря над книгой» («Казправда», 15.11.03), Олжас писал покаяние не сам, – «инструкторы подсуетились», документ этот ему сочинили бравые ребята из ЦК. Тогда становится понятной та изумительная описка, которая свела на нет всё «покаяние». Ребята действовали по принципу «лучше перебдеть, чем недобдеть», а потому к месту и не к месту употребляли «не» и «ни». В своём рвении в отрицании книги они забыли о том, что оборот двойного отрицания является по смыслу утвердительным, а потому из письма выходило, как вы уже убедились сами по приведённой чуть выше цитате, что Олжас нисколько не жалеет о написании книги, что он не столько обескуражен её выходом, сколько, напротив, преисполнен совсем противоположных чувств. Но впопыхах этот ляп никто, пожалуй, не заметил.