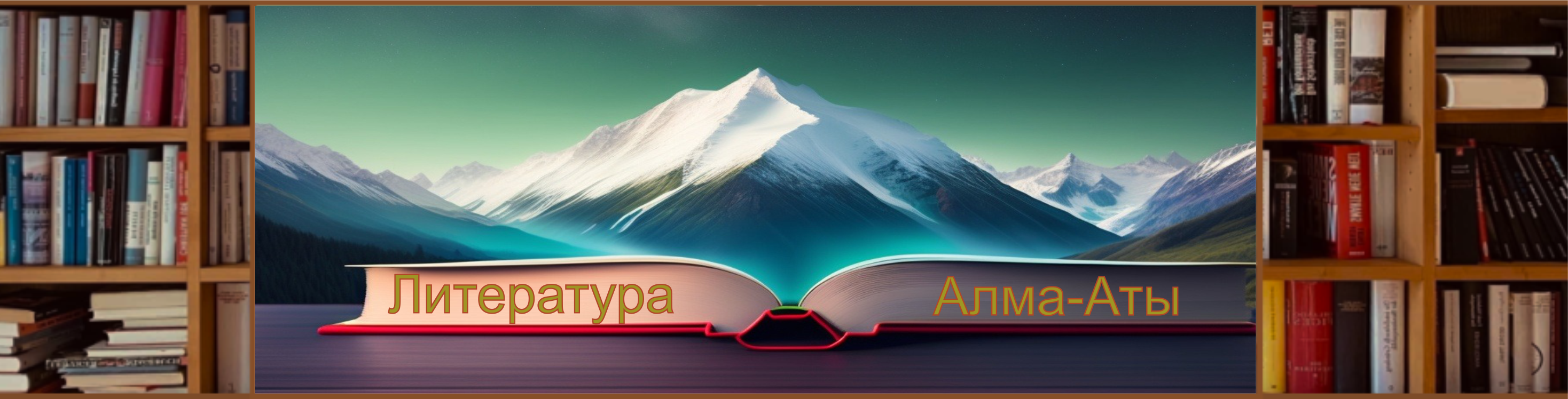– Два часа! – в отчаянии сказал он. – Заявление надо подать в течение двух часов.
– Ну, хотя бы завтра, – пытался я сообразить, что делать дальше.
– Нет-нет. Сегодня.
Всё было просто: готовилось бюро ЦК по крамольной книге, и надо было срочно доложить о принятых мерах.
И ещё один разговор запомнился мне – два месяца спустя, когда я уже был техредом на полставки в «Просторе», когда было велено меня – не пущать, не издавать, не печатать. По совету друзей, забыв завет Булгакова, я пошёл на приём к завотделом культуры ЦК Альберту Устинову. Всё же коллега, тоже писатель – даже стихами балуется. Вон, пьесу написал. Поможет. Должен помочь.
В ЦК я попал впервые. Меня поразили огромные пустые коридоры и такие же огромные и, в общем–то, пустые кабинеты. Альберт Александрович внимательно выслушал, кое–что уточнил, обещал принять меры. И когда я шёл на выход и уже пересёк бессмысленно большое пространство кабинета, он вдруг окликнул меня:
– Постойте! – в его голосе был промельк человеческого любопытства. – Скажите, когда вы подписывали книгу в печать, неужели вы не понимали, что это за книга? И что будет с вами? – и кроме жгучего любопытства в его глазах проглядывал панический страх.
– Я подписывал в печать талантливую книгу талантливого человека. А что будет со мной? Но вы же мне поможете.
И он мне помог.
Как раз шла вёрстка сборника рассказов молодых авторов «Солнца луч». С неимоверным трудом мне удалось пристроить в него два небольших отрывка из моего романа, замордованного, заклёванного в рукописи, окровавленного. Альберт Устинов благословлял «молодых» своей вступительной статьёй. После моего визита к нему он дописал пару страниц досылом. Они были посвящены моей скромной особе. На моём примере наставник показывал молодёжи, как не надо писать. Он добивал лежачего.
Я был мелкой мишенью, очень мелкой. Но и по мне лупили картечью. Можете себе представить, из каких орудий и как били по Олжасу. Он был для них главной мишенью. Очень крупной, очень видной. И били по нему без промаха.
Потом, десятилетия спустя, я часто вспоминал ту минуту, когда подписывал в печать олжасовскую книгу. Часто проходил мимо дома бывшего генерал–губернатора. Дом был ветхий, дореволюционной постройки, но охранялся как памятник старины. Временами его начинали реставрировать, наводя лоск на парадное крыльцо и обновляя стены, но при этом рушился потолок. В том здании было что–то инфернальное, булгаковское, как и во всей нашей тогдашней жизни. Уже с кончиной советской власти оно дважды горело. Руины его долго высились почти в центре города, как памятник эпохи безудержного абсурда и тоже безудержной, но не бессмысленной отваги.
Дом рухнул под тяжестью обстоятельств, исчез. А книга продолжает жить.
Обратная сторона медали
Не буду в тысяча первый раз говорить о значимости книги «Аз и Я». Да, я, быть может, стал первым её читателем, и не просто самым внимательным, но и придирчивым и не таким уж благостным. Книга была откровенно дискуссионной и яростно полемичной. Анализируя святое святых русской литературы «Слово о полку Игореве» и «Задонщину» (но прежде всего «Слово…»), Олжас искал новые точки отсчёта в оценке этих литературных памятников (это я почти дословно цитирую своё ред.заключение), выступал против устоявшихся стереотипов. Было самоочевидно, что книга вызовет возражения специалистов, но именно этого добивался Олжас.