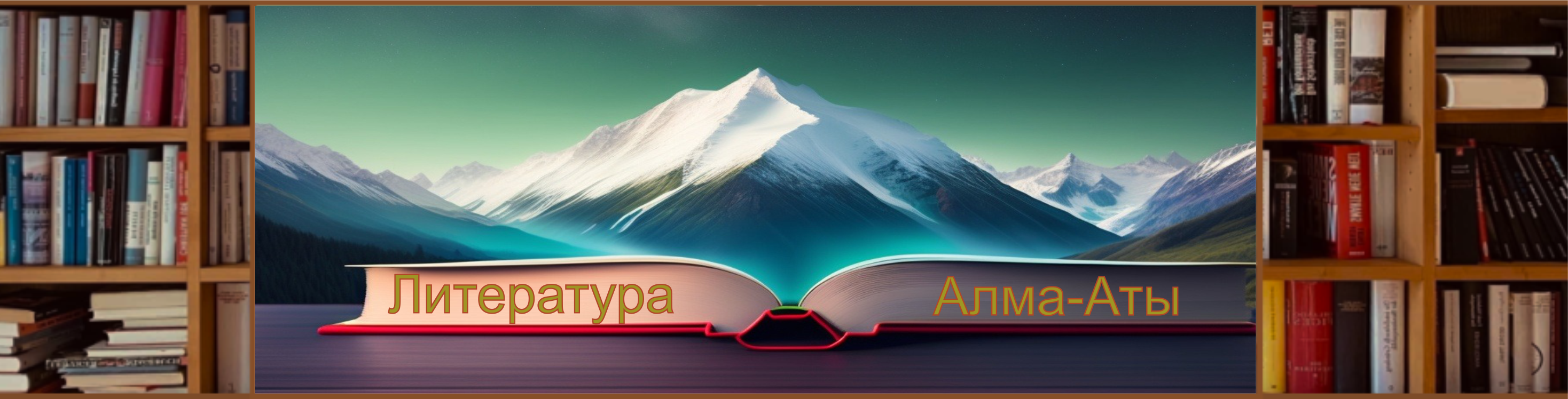Полагаю, продолжает Толмачёв, что нет нужды спорить с логическими заключениями автора. Они в книге. Но Олжас прав, безоговорочно прав, когда заявляет, что историю мы изучаем по датам начала и окончания войн. А годы добрососедства, дружбы – во мраке. Как–то в разговоре Олжас выдал экспромт: «Кровь – чернила истории». Мирные времена труднее описать, чем войну.
Неоценимая заслуга автора «Аз и Я» в том, что он, привлекая в аргументы тюркские языки, обладая блистательным поэтическим даром, а значит, умением проникать в самую суть слова, приподнял завесу, а порой и прочитал самые туманные и спорные строки великого памятника.
Что было дальше, известно всем. Была экзекуция автора, его принудили к публичному покаянию, редактора сняли с работы без права печататься, оставив без куска хлеба. В сущности, Олжас в одиночку противостоял мощному и беспощадному прессингу советской идеологической машины. Меня поразил рассказ известного литератора Темирхана Медетбека, который в середине 70–х прошлого века работал в Мангыстау и однажды по журналистским делам побывал в тамошней тюрьме. Он случайно заглянул в тюремную библиотеку и обнаружил в одном из углов на полу гору книг Олжаса «Аз и Я» числом около трёхсот – книгу взяли под стражу. Но уже в 1986 году в журнале «Проблемы коммунизма(!)» книга была названа в числе тех немногих предпосылок, что подготовили перестройку, а значит, добавим мы теперь, и суверенизацию Казахстана. И тем более представляется нелепым и чудовищным, что этого человека нынешние ультрапатриоты выставляют чуть ли не национальным нигилистом. Хочется напомнить им слова большого русского поэта Леонида Мартынова: «Олжас Сулейменов, казахский поэт, творящий на русском языке, целиком остаётся поэтом казахским».
Но вернёмся к событиям тех давних дней. Сигнальный экземпляр книги вышел, помнится, в мае, а уж сам тираж почему–то месяцем позже. Процесс редактирования и выпуска книги занял чуть больше девяти месяцев. А потом я почти год писал объяснительные в различные инстанции – высокие и не очень. Мне казалось, их цель – защитить автора талантливой книги, оградить его от неправедного гнева власть предержащих, а точнее – партийных бонз. Ну, это мне так казалось. По наивности. Чиновничья рать была озабочена вещами более простыми и практичными.
Помнится, 5 мая 1976 меня вызвал к себе в кабинет директор издательства «Жазушы» Абильмажин Жумабаев, человек милейший и в высшей степени интеллигентный. С непонятными заминками и умолчаниями он минут пять говорил о той большой работе, которую мы с ним вели в издательстве и, очевидно, ещё будем вести. Слова как бы тонули в вязкой тине. Я слушал директора, пытаясь уяснить цель разговора. И вдруг понял:
– Мне подать заявление об увольнении?
– Да! – с мучительной готовностью ответил он. И тыльной стороной ладони вытер пот со лба.
– Но… – и тут я схватился за голову. – У меня же идут подписные листы Косенко, Меркулова! И потом… я должен подыскать другую работу.
– Да-да! Конечно. Ищите. Само собой, сколько вам понадобится времени?
– Думаю, две недели.