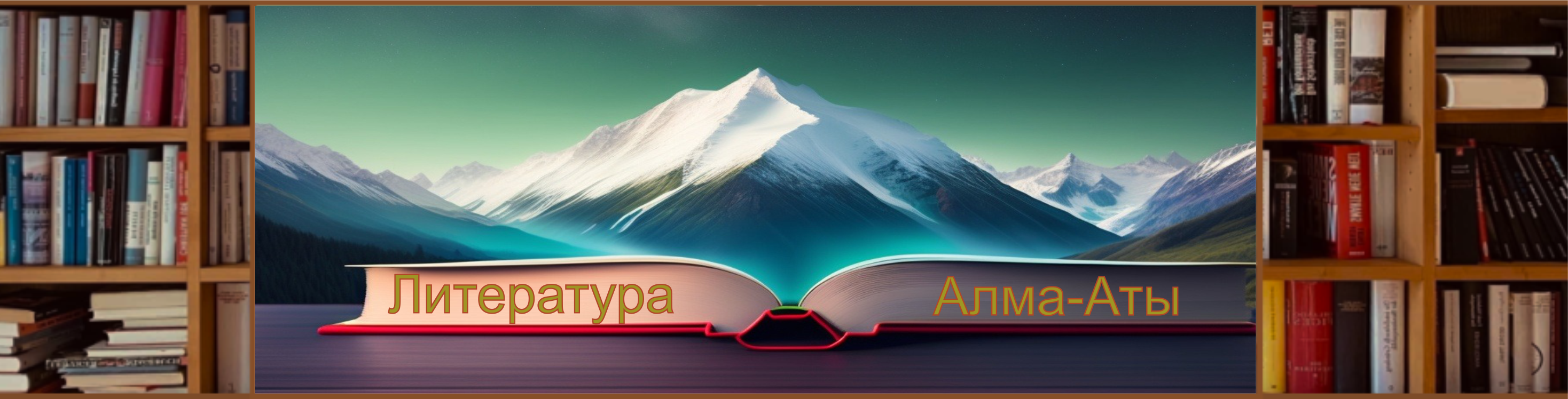Был он красавцем, успешным журналистом, талантливым писателем, любил и был любим, много было знаменитых друзей…
И вот, о Боже, конец его пути… Грязные старые обои с выцветшими розочками, несвежее постельное бельё… Но зато хороший сын… И вот они, его друзья, правда, не такие знаменитые, какие у него бывали в молодости, но всё же…
Он снова застонал. Она приподнялась, поправила одеяло, да так и осталась стоять перед ним, чувствуя невозможность молчания.
– У тебя, Саша, славный сын, – сказала она вдруг.
Он едва шевельнул головой. Глаза горели, как уголья.
– И у тебя неплохие друзья, то есть мы, не правда ли?! – попыталась она пошутить.
Он опять вроде кивнул. И вдруг неожиданно для неё самой рука её потянулась к его голове, погладила его посеребренные волосы и, на миг задержавшись, опустилась к его небритой щеке, пытаясь сделать хоть что-нибудь, чтоб отвлечь его от горестного бремени последних минут, чтоб не так тяжко было ему уходить, словно стараясь защитить, утешить, согреть его своей лаской, как если бы она была его сестрой или даже матерью.
Вошли мужчины. Теперь в тесной комнатке их было четверо – три казаха и он, если не считать иконки Божией Матери на стене.
Исповедь
Несколько зажжённых свечей горят ровным пламенем.
Только одна, ближняя, слегка колышется-волнуется: то вытянется, удлиняясь, вверх, то наклонится в сторону, спадая…
Я долго, не мигая, смотрю на огонёк, глаза наполняются влагой, пламя расплывается в красное пятно…
Оно словно чувствует моё дыхание, словно впитывает невидимые волны, идущие от меня, от моих беспокойных мыслей, которые я никому не поверяю, прячу глубоко-глубоко в себе и только иногда безжалостно полосну, как будто ножом, набухший нарыв-накопитель, обнажаясь перед самой собой, перебирая мысленно былые ошибки-прегрешения, пока не доберусь до самых потаённых, самых постыдных, самых грешных… а затем начинаю искать оправдания…
Пламя отражается в моих зрачках, кажется, что сопереживает мне, чутко реагируя на всплеск исходящих от меня волн мыслей-вибраций, натыкающихся на окружающее безмолвие комнаты и уносящихся дальше, за стены дома, за пределы моей маленькой вселенной…
Будто идет молчаливый разговор.
Пламя притупляет горечь, сжигает сомнения, отпускает грехи, успокаивает совесть.
Оно принимает мою исповедь.
Песнь
Я подлетел к окну кухни. В это время мы обычно ели каждый свою порцию каши. Ели обычно молча. Она была совой, я – жаворонком. Она молчала, я изредка что-то говорил…
И вот на второй день после моих похорон я прилетел к ней. Она сразу же заметила, встрепенулась, посмотрела пристальней. Я же пытался дать знать: ну смотри же, смотри! Вот я прилетел! Не плачь, не горюй, родная! Мне теперь не больно… Смотри, какое одеяние у меня – брюшко янтарно-изумрудное, спинка вся переливается голубовато-оливковым и даже чёрный галстучек у меня есть.
Было очень неудобно – прижаться так близко к плоскому стеклу, смотреть и смотреть, видеть, как она потерянно, недоверчиво и даже испуганно вглядывается. Мы встретились взглядом, и чтоб совсем уж не напугать её, я улетел.