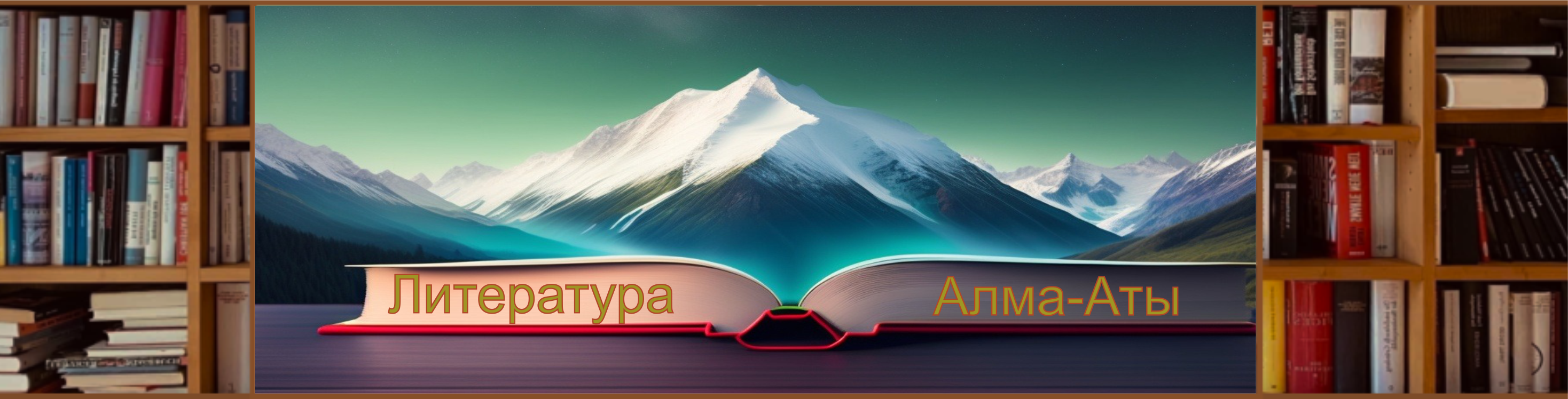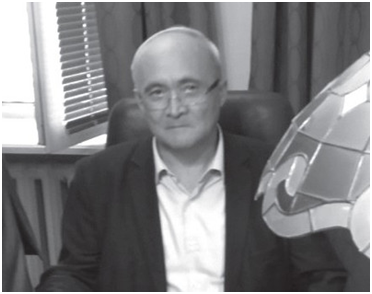
Торегельды Туякбаев
https://kazpravda.kz/n/poslaniya-poeta
Мастер паузы
Труднопереводимый Торе Рахман приглашает к размышлению
Всем известно: поэзия – магия слова. От себя же я иногда добавляю: и ещё – интонация. Бывает и такое: слово, выразительное, не заношенное, есть, а вот доверительной интонации, проникающей в душу, – нету. И под вопрос становится сама поэзия: в лучшем случае получается проза, да и та без интонации, как правило, не вызывает, не находит ответного читательского отклика.
А вот прочитал рукопись поэта, чья книжка сейчас перед вами, и задумался. Мне показалось, что есть что-то ещё, третье, помимо слова и интонации, что делает поэзию, пусть хотя бы в данном конкретном случае, проникающей, вызывающей на ответное сочувствие и ответное же если не размышление, то – соразмышление. Довольно долго думал и пришёл к такому определению: это «что-то» находится даже не в строчках стихотворений, а за их пределами. Либо между строк, либо уже после точки или в крайнем случае – многоточия. Вот прочитайте про себя хотя бы такой кусок…
Песка наждак, песка кресало,
Я – кинжал. Спрятан в ножны пока.
В дни, которые не бывало,
Пусть выйдет батыр, силён на века.
Я бы хотел чёрного дня
Истребить зло в этих песках.
Ты поэтому наточи меня,
Наточи меня,
Песчаный наждак!
Вот эти, враньё взяв за основу,
Мою правду стёрли в порошок.
Песчаный наждак, возвратись же снова,
Наточи меня, чтоб их срезать мог!
Наждак и кинжал – какая опасная пауза между ними. Да, здесь есть хорошее вкусное слово – тот же песок, как наждак, но ещё больше меня лично притягивает то, что осталось за пределами этих нотных знаков, этих слов и этих строчек. На каком-то слове, образе, на какой-то картинке автор, Торе Рахман, вообще, как бы останавливается и предоставляет не только себе, но, на равных, и нам, читателям, возможность некоего интеллектуального startup, самостоятельного додумывания и довоображения. Мне лично за барьером прерывистых, как настораживающая кардиограмма, пульсирующих строк, часто посвящаемых авторам родной суровой природы, представляется сама тяжёлая, на вид мёртвая, гнетущая полу мирная глыба песка, над которой маревом вьётся губительный вихрь, вихор наждачного зноя, а вот под ним, под этой мёртвой глыбой, всё же прерывисто дышит, теплится, развивается и даже умножается – жизнь.
В России сейчас редко печатают, вернее, редко переводят казахских поэтов, пишущих на родном языке. Если и печатают, то чаще тех, кто пишет, а может, и думает по-русски, благо что русским Казахстан или русский Казахстаном владеют всеобъемлюще и традиция русскоязычной поэзии, как и прозы, здесь имеет свою глубокую историю: достаточно вспомнить гениального выходца из этих мест Павла Васильева, да того же Олжаса Сулейменова или Ивана Шухова… Не говорю уже о той русскоязычной литературе, что в своё время каторжно и вместе с тем животворно, в том числе и для этих иноземных мест, была раскидана по здешним ГУЛАГам, и не только Петровых, Домбровский, Раевский, Солженицын и многие-многие другие. Да и переводить современных казахских поэтов не так просто, особенно если учесть, что за наши разъединённые годы во многом утратились и опыт, и культура таких переводов. Современные казахские стихотворцы пишут уже иначе, чем писали их предшественники, выросшие почти исключительно в русской традиции и культуре, учившиеся зачастую в том же Литературном институте и в других московских вузах.