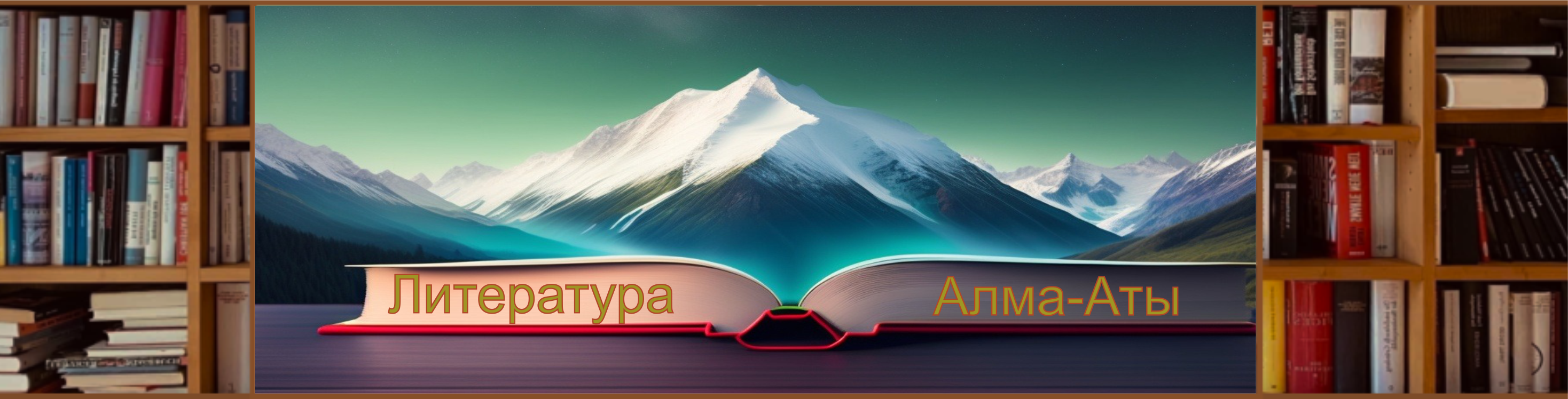– Не могу судить об этом, но каждую свободную минутку, которая выдавалась в перерыве между основной работой (а это те два-три часа, когда я сдавал плановую статью, а очередная не завладела мною еще, не заполонила), брался за стихи. И вся моя жизнь состояла из того, что:
Я подгонял к словечку слово,
Освобождал слова от пут,
Крепил их звонкою подковой,
Благословляя фразу в путь.
Я вглядывался в смыслы жизни,
Пытаясь им найти слова.
От истины не общепризнанной
Порой кружилась голова.
И в забытьи томилось слово,
Не осознавшее пока,
Что в нём живет первооснова,
Рассчитанная на века.
«В одну телегу впрячь ли можно коня и трепетную лань»?.. Почти во все свои книги я включаю наряду с очерками и эссеистикой свои стихи, стараюсь совмещать, казалось бы, несовместимое. Мне немало лет, но у меня ощущение, что в моем распоряжении вечность.
– История литературы знает подобных тружеников, поставлявших в газету (даже ежедневно) очередной рассказ; результатом являлись целые сборники, выходившие немалыми тиражами. При размышлениях о Вашем феномене (В.В.Бадиков) и Вашем месте в современной казахстанской литературе невольно вспоминается жизнь творчество нидерландского писателя Симона Кармиггелта, проработавшего журналистом ежедневной газеты около сорока лет.
– Тут любопытный парадокс: газета отнимала всё время моей жизни, и лишь то, что запланировано в номер, на прочее у меня просто не было времени. Но – мне интересно было писать для газеты то, что я пишу. Причем всю жизнь я боролся с газетным словом. Писательство и работа в газете – вещи трудно совместимые. И я боролся с собой, с журналистом. А теперь понял: надо поставить писательское дело на службу журналистике. Я молю Бога, чтоб он не запечатал мои уста и не лишил ясности мысли, легкости сердца. Виктор Бадиков упрекал меня, что я не пишу роман о современности, говорил: «Закапываешь свой талант». Но когда взял в руки сборник «Нужна ли тетиве стрела?», то воскликнул: «Так вот же роман!». Конечно, я надеюсь, жизнь даст мне какое-то время, чтобы я успел написать давно задуманную книгу о нашем времени, о своей жизни; хочется написать такое, чтобы цепляло, за душу брало. Если вы прочитали материал о семилетнем мальчике в одном из номеров нашей газеты, посвященном Дню Победы, вы поймете меня. Мне интересно было беседовать с самим собой о семидесятилетней давности. Так или иначе, это уже подступ к теме той заветной книги.
– Писатель оправдывает свою газетную поденщину тем, что «надо зарабатывать на жизнь, надо кормить семью». Не есть ли это предательство таланта? Но ведь история искусства знала многих тружеников, вынужденных зарабатывать хлеб свой насущный, работать по заказу. Ну, вспомним хотя бы только великих – Баха, Моцарта. Став капельмейстером при дворе князя Леопольда, Бах, глубоко религиозный человек, был вынужден на какое-то время отойти от церковной музыки и сочинять светские произведения. Работая в Лейпцигской школе св.Фомы, он сочинял музыкальные опусы по заказу других церквей, городских властей, чтоб прокормить свою семью…
– Что ж, беру в сотоварищи Баха! – Адольф Альфонсович не может скрыть ироничной улыбки.
Он убежден: отсутствие чувства юмора, быть может, самая невосполнимая беда. Жизнерадостный, жизнелюбивый человек, поражающий своим оптимизмом, активно живущий настоящим, заглядывающий с удивительным спокойствием в будущее. Он занимается любимым делом, он следует завету великого труженика поэта Николая Заболоцкого: душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь… Он похож на своих героев – так же истово служит своему делу, верен ему. Герои его эссе – писатели, артисты, художники, люди мира музыки, медицины, есть даже один винодел-виноградарь, занимающийся своим делом как поэзией, есть документальный рассказ и о президенте нашего Пен-клуба. И их судьба – это и одновременно героические этапы пути страны. Как например, очерк о Серике Умбетове, прошедшем путь от грузчика до директора совхоза, министра, акима одной из областей Казахстана. Или очерк о Елеусине Сагындыкове, бывшем акиме Актюбинской области, сенаторе.
В каждом рассказе автор затрагивает проблемы гуманности, говорит о чувстве ответственности за свои поступки, о простых человеческих отношениях. В рассказе о Касыме Кайсенове мы сталкиваемся с великой трагедией человеческой души – как тяжело в конце своей долгой жизни осознавать, что ты повинен в смерти людей, даже если сделал это, защищая свою родину. Невольно опять-таки напрашивается параллель — роман-антология Милорада Павича «Бумажный театр», составленный из тридцати восьми рассказов, написанных самим автором от лица тридцати писателей тридцати восьми стран. Так же, как и в «Бумажном театре», в каждом очерке или эссе сборников Адольфа Арцишевского виден сам автор. Своей личностью и сквозной темой – поклонением-исследованием мощного всплеска творческого начала, силы человеческого духа, проявляющегося в переломные моменты истории, – он объединил их в единое целое. А, по мнению Милорада Павича, этого в ХХI веке для романа достаточно.
То есть, Адольф Арцишевский – летописец не только духовной жизни современного Казахстана, но и современной жизни вообще. Не проповедуя, ни на чем не настаивая, он отражает жизнь как есть, в её многообразных проявлениях. Можно только по-хорошему позавидовать его работоспособности и пожелать ему написать давно задуманную книгу, пожелать, чтобы и в самом деле в его распоряжении была вечность.