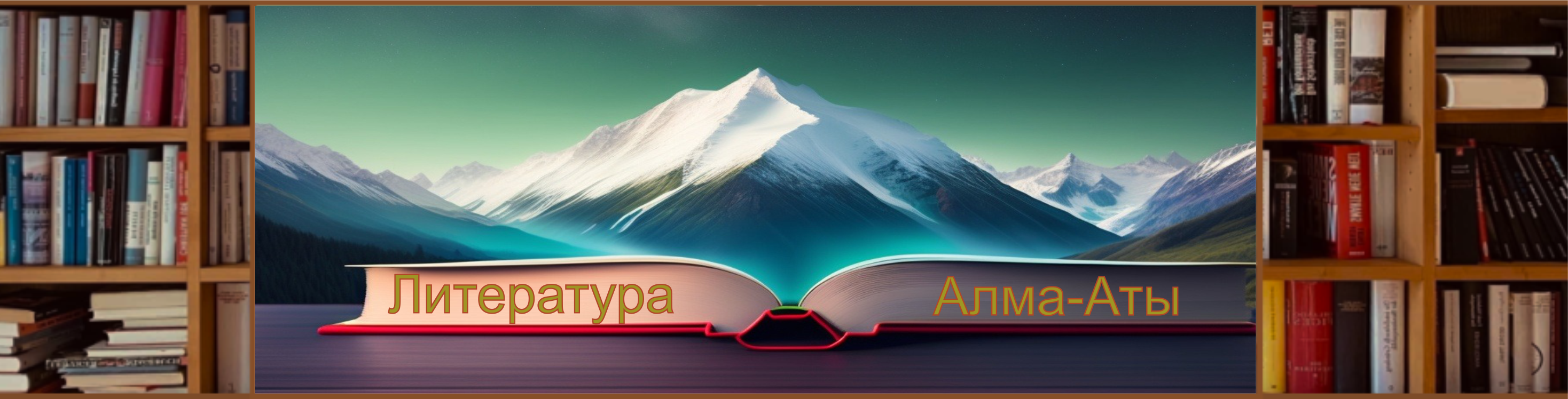В стихах Сагин-Гирея гневный пафос всегда сочетается с объективным осмыслением проблемы, с аргументированными доводами и конструктивными предложениями решения. Строгое, выверенное следование классическим канонам стихосложения, последовательная верность истине. убеждённость в незыблемости вечных человеческих ценностей — таковы основы художественного метода Сагин-Гирея. В своих оценках он всегда опирается на документально существующий материал или факт. Он не увлекается моделированием новых форм стиха, созданием новых психолингвистических образов, не любит вычурность. Он конструирует образы как бы из фрагментов самой действительности. Не интерпретирует, а фотографирует, показывает их читателю со всех сторон и, показав, делает логичный вывод. Его тропы (средства художественной выразительности) основаны не на фантазии автора, а на колоссальной концентрации значений, смыслов, ассоциаций, упакованных в одном, небольшом объёме образа. Но читатель — вот парадокс! — воспринимает их легко, летуче, без усилий. Но потом, когда вынырнешь из захватившего тебя потока, ощущения такие, словно прочитал целую книгу с захватывающим сюжетом.
В рассказе о любом поэте, невозможно обойти тему любви. А у Сагин-Гирея она особенная. Его вторая половинка — тоже поэт, Ольга Шиленко. Эта пара всю жизнь привлекает к себе общее внимание неразгаданной загадкой, как удаётся ужиться под одной крышей двум талантливым людям, да ещё и одной профессии? В мире таких примеров единицы. Возможно, ответ заключается в том, что, если принять за аксиому тот факт, что их стихи как бы вырастают из самой жизни, то можно утверждать и обратное — может быть, они свою жизнь научились творить так же, как стихи? Судите сами. Вот короткий эпизод из начала их отношений, рассказанный Ольгой Шиленко корреспонденту одного из глянцевых журналов Елене Зинченко.
Оля, тогда ещё 18-летняя «книжная» девочка не могла остаться равнодушной к тому факту, что её поклонник знает наизусть чуть ли не всего Блока. Но её пугало несоответствие реального молодого человека (кстати, вполне симпатичного и пользовавшегося успехом у девушек не только из-за Блока) придуманному ею идеалу прекрасного принца. Она сбежала от него, а скорее, от себя на Иссык-Куль, к бабушке. И вот, буквально на следующий день жители всей акватории большого озера прочитали в самой популярной среди них газете «Иссык-кульская правда» любовное стихотворение, посвященное Ольге. То же повторилось на второй и на третий день. Дело в том, что Сагин-Гирей работал в то время журналистом в Джезказганской областной газете и не поленился наладить связь с киргизскими коллегами, и каждый день посылал им для четвёртой полосы новое прекрасное стихотворение. Красиво? Конечно! Какая девушка устояла бы? Неприступная крепость капитулировала на десятый день.
И, наконец, ещё один штрих, который мне представляется важным для понимания самобытности поэта Байменова. Это своего рода автопортрет в ретроспективе времени. В нём поэт предстаёт неисправимым романтиком, ценителем многообразия жизни и увлечённым мечтателем. И здесь становится понятной, говоря словами Станиславского, сверхзадача его гражданской лирики. То, ради чего он с таким упорством чистит и чистит Авгиевы конюшни, вновь и вновь звонит в корабельные склянки, упрямо надеясь, что эти склянки окажутся не на Корабле дураков.