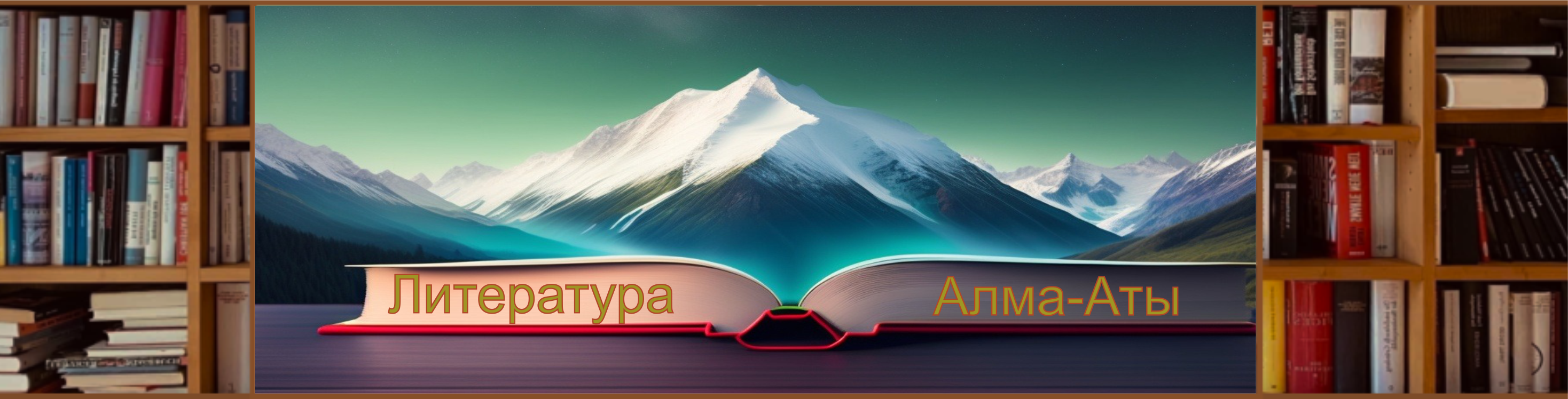Я никогда не думал, что она так легка.
В окно стремительно летели звезды. Их полет был мгновенен, как вспышка, ослепителен, будто удар. А траектория полета проста, естественна и неизбежна, как биение сердца.
… У нее было легкое тело, оно не знало усталости.
А в моих ушах пульсировала кровь. Так бывает в полосе прибоя, когда содрогаешься весь от ударов и шума волн…
Я проснулся, словно меня окунули в прорубь. Стоял страшный грохот. Электрический свет был по ночному резок и силен. По комнате, вдоль стен, в одних подштанниках бегал Трофим.
— Держите меня, а то я убью его, — говорил он придушенным голосом. И проверял крепость крючка на двери, и прятал под перину лом, топор, ножи и вилки.
— Держите меня, а то я убью его, — шёпотом угрожал он кому-то. И снова в одних подштанниках бегал вдоль стен, ослепленный светом и страхом.
А на улице неистовствовал Павел. Он бил чем-то железным по крыше собачьей будки. Будка была обита жестью. В будке выла от ужаса Гретхен.
— Моллюск!.. Брюхоногое!..
Очки Павла сверкали со страшной силой.
— Простейшее!..
Самое скверное в этой истории то, что простейшие физиологически бессмертны.
А утром ночные враги с мрачным видом обследовали собачью будку. Крыша была пробита в нескольких местах.
— Придется новую делать, — поставил безрадостный диагноз Павел.
— Попробуем отремонтировать, — подал слабую надежду Трофим.
Но собачья будка — всего лишь нейтральная зона. Братанье начнется к вечеру.
С лекций я возвращаюсь в ликующий дом. Тетя Саня со зверский видом тискает крутые бедра гитары и мужским голосом поёт о женской любви. Трофим и Павел на грани невесомости. Разбавленная хмельными слезами водка толкает их на поцелуи. У Трофима шевелятся уши. А Павел, целуя, с трудом подавляет естественное желание укусить.
Они считают, что я должен выпить.
— Мы тебя любим, — сообщила мне тетя Саня.
— In vino veritas, — подкрепляет ее заявление Павел.
У Трофима собачья улыбка. Он бы тоже сказал что-нибудь. Но речь находится за порогом его сознания. Сейчас он в состоянии мычать или лаять.
— А у меня побелили, — сказала Инна. — Я у тебя.
У нее был откровенно беззащитный вид. И я не сразу понял, в чем дело. У нее была небольшая стирка. С моей книжной полки свисали трогательные тесемки с еще влажным перламутром пуговиц. На собрании сочинений Джека Лондона сохли панталоны.
— Тебе не кажется, что это не совсем подходящее место для сушки… белья?
— Ты думаешь?
У меня пересохло во рту. Очевидно, в такие минуты думать не положено.
А ночью в нашу комнату ворвалась тетя Саня.
— Оторвите руки-ноги, на заду я допляшу!..
Вообще, тетя Саня была талантливым человеком. Я выключил свет.
— Плясать можно и в темноте.
Тетя Саня была на этот счет иного мнения.
— Не морочьте мне эти самые штучки, — сказала она.
— Надо экономить… — пытался урезонить я тетю Саню ее же аргументами. Но она ударилась в риторику:
— Кто здесь хозяин? — И с пафосом отвечала: — Я здесь хозяин. Чей этот дом? — вопрошала она темноту. И бия себя в грудь: — Мой этот дом.
А у нас не было недвижимости, С точки зрения тети Сани мы не имеем ничего. Но только с точки зрения тети Сани.