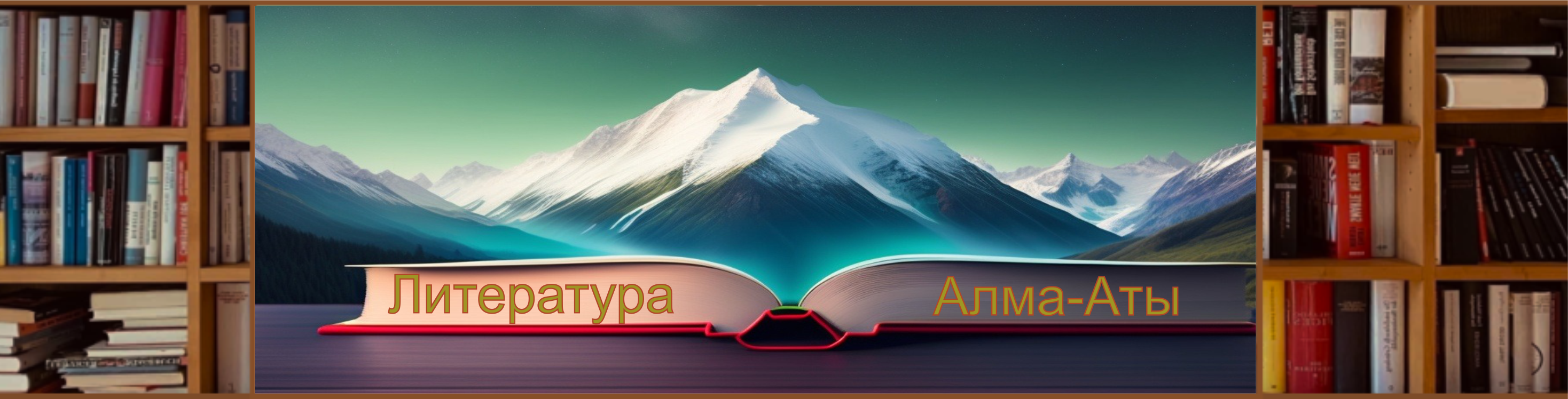— А, это ты.
И снова уставился на огонь. Так смотрят на огонь собаки и лошади. Трофим думал. Трофим вспоминал. У него шевелились уши.
— Помню, в старые добрые времена жила в нашем дворе, прости господи, Люба…
Его душа увязла в минувшем. Она заблудилась в старых добрых временах, когда жила, прости господи, Люба.
Трофим не любит газет, но он часто читает газеты. Скулы его обостряются, под кожей начинают ворочаться желваки. И шевелятся уши, как у серого волка. Трофим смотрит в газету так, словно хочет кого-то съесть.
Мне жаль газету. Она выходит из рук Трофима истерзанной и помятой, как старая простыня. Мне жаль тех женщин, которых он назвал своими.
Дрова сгорели. Он сидит с кочергой в руке. Он ворошит воспоминания. Он ворошит холодную золу.
Тихо скрипнула дверь. Это Инна. Она торопливо прошла в свою комнату. Я снова не спал до утра.
Мир был загадочным и странным. Мне чудился во всем какой-то сокровенный смысл. Я жил в ожидании чуда.
Но чуда не было. Был диспут, не помню — какой, Должно быть, о любви, о смысле жизни — об одной из жгучих и вечных проблем, которые надо решать в двадцать лет, и не позже.
Актовый зал, огромный, словно Аравийская пустыня, был душен и тесен. Паломничество к истине. И я среди паломников с горящими и несогласными глазами.
Сквозь гул и ропот пробивался голос. Спокойный голос. Стерильно-чистые суждения витали в духоте. Говорил человек прописные истины. Теперь-то я понимаю: говорил специально, чтоб нас раззадорить. Но тогда почем мне было это знать?
Я чувствовал, что молча стервенею.
— Легко приспосабливаться. Жить, как это хочется тебе, трудно.
Меня услышали, с готовностью втянули в спор:
— Конечно, трудно. Особенно, если хочешь взять от жизни все, что можно. Ты ведь говорил такое.
— Да, говорил.
Сейчас будет речь.
— Но я не вкладывал в эти слова тот пошлый и циничный смысл, какой принято вкладывать в уста негодяев. Взять от жизни все — это значит не бояться жизни. Жить осмысленно. Понимаете?
И все тот же стерильный голос:
— Нет, не понимаем. Вы противоречите себе.
Наверное, противоречу. Конечно же, противоречу. Но дайте время — жизнь научит меня своим аргументам. Научит раньше, чем я этого хочу.
Я говорил, должно быть, глупости. Но, Бог ты мой, — как я говорил!
У меня был воинственный и жалкий вид, когда я пробился сквозь спор и спорящих.
Вечерело. В вестибюле меня ждала Инна. Должно быть, это было то чудо, о котором я мечтал. Но я жил только что отгремевшим боем. Меня сотрясали страсти:
— Он, видите ли, не понимает меня. А ведь это просто, я хочу быть на земле не туристом — хозяином. Я знать хочу землю. Понимаете? Знать. Ну что же вы молчите?
Ее глаза были серьезными и глубокими.
— Я люблю тебя, — сказала Инна.
Земля ушла из-под ног. И я, должно быть, впервые понял, какое это счастье — жить.
Потом был долгий вечер. Мы шли по берёзовой аллее. Я обнимал ее, а вместе с ней — берёзу. Целовал, конечно, только её.
Я не стал ждать прихода тети. Я сам выключил свет. Рядом было дыхание Инны.
— Сумасшедший…
Я взял ее на руки.
— Не надо.
Моё тело было как сгусток энергии.