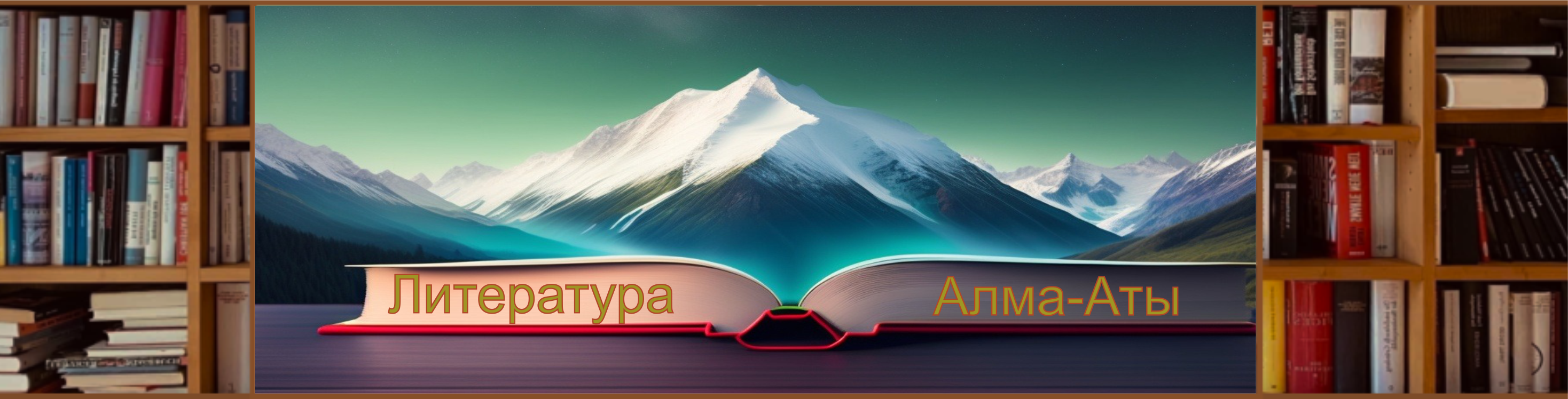Наиболее вероятно, что чертежи, посланные в Синод, были сделаны в определённой степени эскизно, без детальной проработки всех узлов, что, в принципе, утверждающим инстанциям и не нужно. По справке строительного отделения 1904 года в проекте Тропаревского было 2 листа (фасад и план), у Борисоглебского – 4 листа (два фасада, план и разрез). Более подробные разработки деталей обычно делаются после утверждения эскизов. Но к началу стройки Борисоглебский уже далеко от Верного. В 1902 году он назначается губернским архитектором в Курске. Детальных чертежей от него уже не дождешься, а храм надо строить, и производителем работ по возведению собора назначается Андрей Зенков.
Краевед А.Г. Воронов в своей публикации «Верненские загадки» в мартовском номере журнала «Простор» за 1987 год весьма тщательно и заинтригованно исследует этот факт. Ведь по найденным им архивным данным свои услуги предлагали такие опытные строители, как мещанин Андрей Затыльников и известный строитель мостов, крестьянин, Андрей Мальков. А мещане, Тихонов и Великанов, обещали даже скинуть по 22 процента с каждого сметного рубля по доставке материалов, лишь бы им отдали подряд.
Я думаю, очень дорого обошлась бы такая экономия, потому что вклад Зенкова, как квалифицированного инженера-фортификатора, в разработку узлов крепления, в усиление сейсмостойкости здания, просто неоценим. Он вносил весьма основательные изменения в проект Борисоглебского, первоначальная смета по которому была исчислена в 120 531 рубль. Наверняка, все эти предложения согласовывались, корректировались и одобрялись Тропаревским, ставшим областным архитектором. До нас дошли сведения, что было 5 листов рабочих чертежей самого Зенкова. Виталий Анатольевич Бакуревич, правнучатый племянник Андрея Павловича, вспоминает, что в пятидесятых годах теперь уже прошлого века, его матушка приносила эти чертежи в Госмузей, находившийся тогда в соборе. Но «руководители» музея отмахнулись – «у нас и для своего добра места нет». И о доработках проекта теперь можно судить по протокольным записям.
Все предложения Зенкова были весьма дельными. В июле 1904 года, уже после заливки фундамента, принимается решение о замене деревянных полов цементными, кирпичных цоколей – бетонными, шатрового перекрытия главного купола — луковичным. Через год Андрей Павлович предлагает увеличить высоту колокольни на 4,33 сажени (9,1 м.), «как более отвечающей своей архитектурной компоновкой эстетическим требованиям без изменения утвержденного плана Собора», и для большей устойчивости и прочности сделать ее не восьми, а четырехгранной. Я выделил «без изменения утвержденного плана», чтобы подчеркнуть сохранность и целостность архитектурного решения Борисоглебского, максимально соблюдаемых при постройке.
С эстетикой, по-моему, если Зенков чуть и ошибся, то на самую незаметную малость. Но западный фасад преобразился. Собор словно устремился ввысь, приобрел легкость, стал стройным и изящным, как юная невеста в сау-келе. Высота до верхней точки креста на колокольне – 44, 2 метра. Второе, а то и первое место в мире среди деревянных зданий.