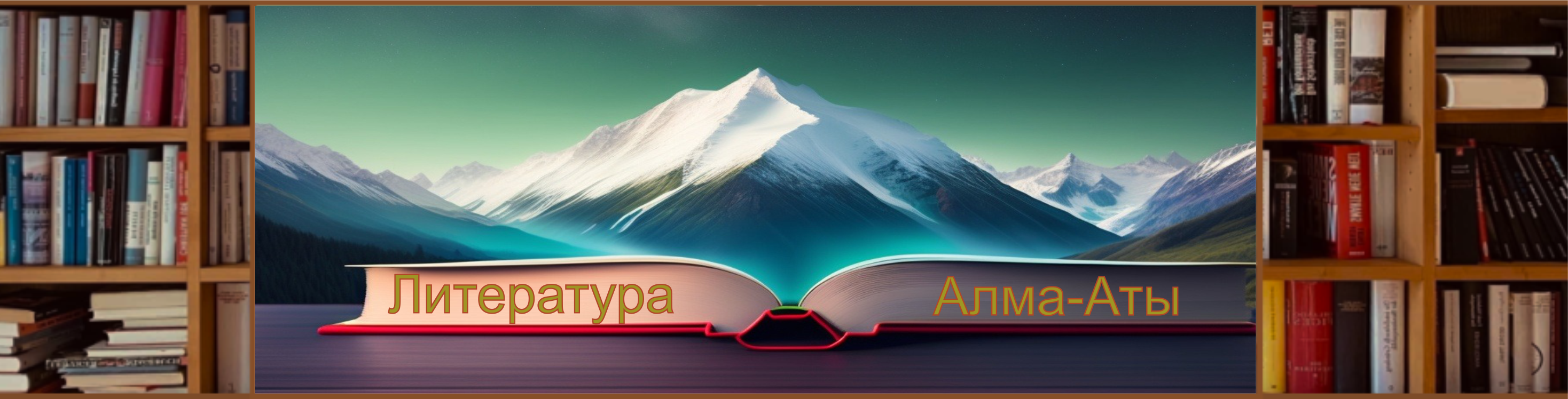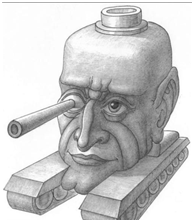
Подозреваю, что краткая биографическая справка, с которой я начну эту статью, станет полной неожиданностью для многих читателей Сергея, знакомых с ним только по соцсетям. Итак. Сергей Лешаков — художник и писатель. большую часть жизни работал в газетах. Член Союза писателей России. Живёт в Казахстане в городе Рудный. Лауреат литературных конкурсов и фестивалей.
Вот цитата из его верлибра:
«Поэзия — это вселенская тоска
о гармонии на земле,
надежда на совершенство,
катарсис души в образной форме».
Этот принцип Сергей Лешаков последовательно воплощает в своем творчестве. По форме его стихи — это концентрированный раствор метафорических смыслов, которые кажутся прозрачными, но прозрачность эта обманчива, как чистота байкальской воды, дразнящей ныряльщиков камушками дна на глубине до 8 метров.
Потому что длится такой букет
дней, почти что размазанных светом,
я рисую город встреч на стекле,
и оно становится слов моих летом.
Из всего, вчерашнего невпопад,
и того, приличного неуместно,
получается тающая тропа,
исчезающая в не имеющем места.
И по этой тропе мы с тобой вдвоем,
на телеге из сигарет и спичек,
невезение наше к Отцу везём,
сняв с него наручники снов-кавычек.
Сквозь ушко игольное, сквозь зрачок
отрешённой смерти, в мир, обручённый
с невозможной радостью, нас влечёт
в яркий свет, быть праздником обречённый.
Стихотворение начинается как бы с середины, с детски бесхитростного восклицания «Потому что!..». Так запальчиво начинают свою речь дети, чем-то крайне взволнованные. Построенная по канонам грамматики фраза звучит так: я рисую на стекле город встреч, потому что (из-за того, что) длится этот букет дней, почти размазанных светом. Высветилась необычная метафора — рисую встречи на стекле. Встречи, словно рисунки, смываемые с оконного стекла. Их накопился уже целый город, недолговечных, мимолётных, не состоявшихся встреч… Так начинается драма человеческого одиночества, драма безуспешных поисков родной души. Фоном для неё служит контрастная картинка: «букет дней, почти что размазанных светом» — вновь опосредованная ассоциация с детской манерой «живописи». Но к чему тут она, пока непонятно. Ведь дальше следует полный драматизма рассказ о безрадостной взрослой жизни, одиночестве вдвоём. Масштабом и ракурсом, эмоциональным воздействием эта картина сравнима разве что с полотнами И. Босха!
Из всего, вчерашнего невпопад,
и того, приличного неуместно,
получается тающая тропа,
исчезающая в не имеющем места.
И по этой тропе мы с тобой вдвоем,
на телеге из сигарет и спичек,
невезение наше к Отцу везём,
сняв с него наручники снов-кавычек.
Кто из нас не терзался непоправимостью сказанного невпопад или досадой на неуместное проявление приличий вместо человечности! Сколько раз в отчаянье, хватая сигарету и обламывая спички, мы пытались осмыслить не поддающееся осмыслению, исправить непоправимое… «На телеге из сигарет и спичек…» — собирательный образ, вмещающий в себя всю горечь непоправимых ошибок на жизненном пути, и многие печальные мысли, знакомые ассоциации, тянущиеся еще с пушкинской «Телеги жизни» …Тропа, исчезающая в не имеющем место — это первое прикосновение серой реальности к запредельной ирреальности, тому, что находится за гранью жизни. «Невезенье везём» — каламбур наоборот, горький сарказм, чёрный юмор. И сразу — огромный скачок, клиповая склейка, переброс на точку зрения Небесных сфер, Отца. «Сквозь ушко игольное (цитата из Евангелия), сквозь зрачок отрешённой смерти (смерть отрешённая — это значит отодвинутая во времени, не физическая, а символическая). Происходит переключение разума за грань неведомого, в Вечность. «К Отцу везём». Вот они где стали понятны детские ассоциации, обозначенные в первых строках. И получается красивое рондо, кольцо любви — мы, дети и Отец Небесный, — охватывающее объятьями всё стихотворение.