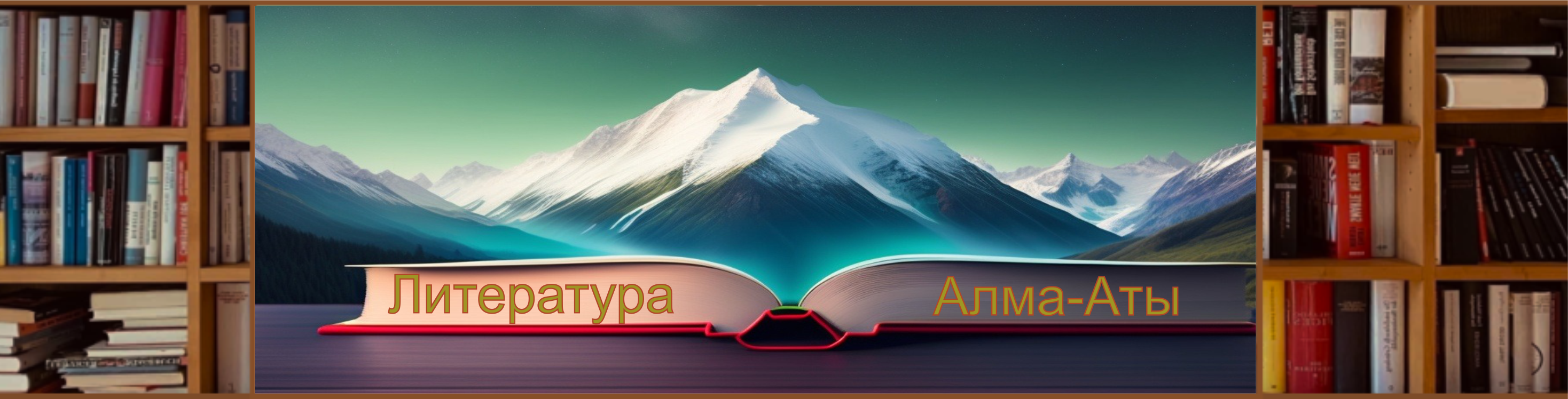Не смотри — мне больно.
Отец смотрел глазами-слезами. Надя никогда не думала, что у папы такие есть. Он будто их достал из воды, не вытер и надел. А у Нади ни слёз, ни глаз. Одни красные-красные реки от карих дырок без дна. Без надежды даже на дно. Папа тогда говорил, что всё прошло, и это пройдёт. Папа тогда встал, стал высоким, каким Надя его, сутулого, и не помнила. Папа тогда глаза-слёзы высушил одной лишь ненавистью. А она только просила, чтобы не поубивал никого, а то она одна останется, никому со своими зрачками-дырками не нужная.
Не говори — мне страшно.
Говори, не молчи, а то страшно. Расскажи всем и каждому, пусть знают. Не расскажи, засмеют. Промолчи, умолчи, а то осудят. Кричи, пусть поймают. Плачь, пусть судом судят, адом грозят. Пусть по почкам пинают за железной клеткой. Только молчи, не пытайся остановить.
Внутри Нади тогда всё кричало. Всё болело, плакало. Хорошо, мамы не было… Мама бы тогда Надю спрятала, крылом защитила, никому бы её боль не отдала, внутри на замок заперла. На роток — платок. На секрет — крышу железную, а сама сверху бы встала. Хорошо, что мамы не было тогда. Плохо, что и сейчас нет.
Папа — не мама. Папа встал, выпрямился, глаза-слёзы осушил. Прогремел на весь рабочий посёлок, прозвенел отцовским горем, провыл ненавистью бестолковой. Как посланник божий беса изогнал. Только вот автобус водить в их глушь долго ещё некому было.
Папа прогремел, снова ссутулился, будто ещё сильнее, чем раньше, и снова на лавку кухонную сел. А Надя наоборот — осмелела. Через год из дома стала выходить. Ещё через полгода в автобус села. Тот же самый, только без беса за баранкой. Той же самой баранкой, только руки её трогают не те, что Надю тогда трогали. И названия остановок кричит не тот голос, что Наде в ухо «заткнись» шептал.
Да как же молчать — если больно!
Семь минут до конечной. И Надежда каждый день чуть-чуть умирает, оставшись последней.