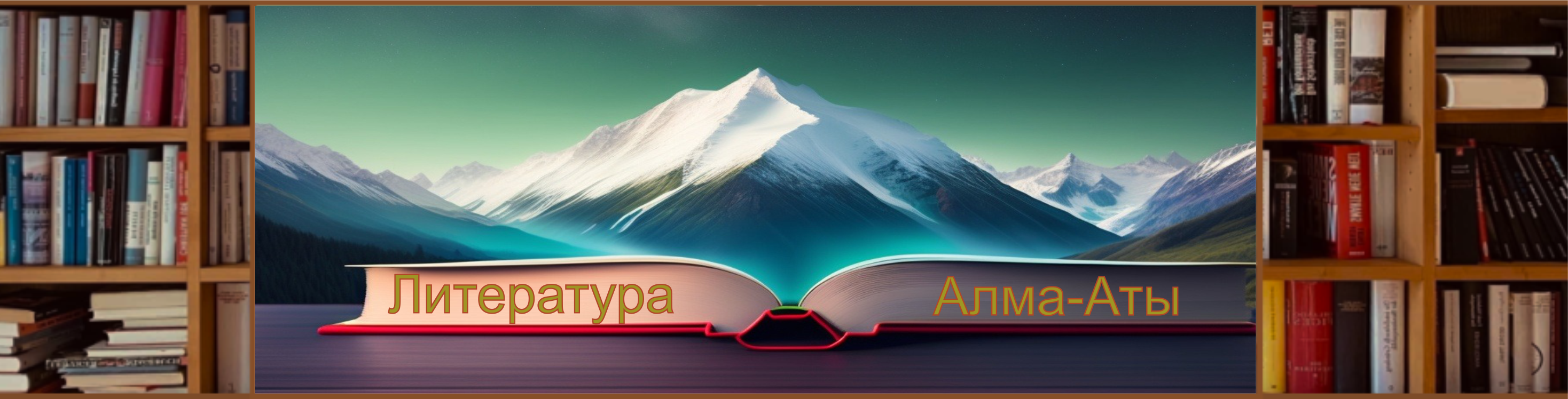Я однажды уронила за окно цветок в горшке. Уронила и поленилась идти поднимать, а он лежал там месяцев девять где-то. Сначала в жаре изнуряющей, потом дождь на него лил безостановочно, потом снег пошёл. Пошёл и не вышел никуда. А лежал, лежал, я вся льдом покрывалась. А потом весна пришла, и я стала мыть окна. Встала на подоконник, вывалилась вся из окна, чтобы стекла с обратной стороны помыть, и увидела горшок этот – вспомнила. Он весь грязный был, треснул сбоку, и из земли торчали жёлтые сухие листья длинные. Тонкие, свернулись аж от смерти своей. И один маленькие внутри где-то зеленел. Ему там очень сложно было, но он зеленел. Теперь смотри какой вымахал цветок, я пересаживать не успеваю. Тогда подняла его, наконец, обрезала всё сухое, ложкой столовой землю прикопала чуть-чуть и на подоконник поставила. А окно тогда так и не домыла.
Говорят, что в доме, где есть любовь, хорошо цветут растения. Мои растения, словно в насмешку цветут. Или, может, любовь так и выглядит? Может, любовь это и есть – ушёл-пришёл-поел-в магазин сходил-обсудил, что на ужин-отвернулся-уснул? Вот бы так и было, тогда я б успокоилась и отпустила бы тебя. Ушёл и ушёл. Пришёл, ну и хорошо. А лучше не надо. Вот так бы я думала, если бы знала, что всё под контролем.
Но ты бесконтрольный, как чёрт. Ты тёмный. Сильный, властный и грубый. И застенчивый, когда мы не касаемся друг друга, как это выходит у тебя, слушай?
И как это выходит у меня, слышать всё это в тебе, знать всё это и не уметь быть рядом, делать тебя рядом. Не уметь смотреть на тебя так, чтобы ты не уходил.
Я ложусь в постель и жду утра. Ты знаешь, как бы ни было плохо, главное дожить до солнца. Вот я и живу.
Дочь апостола
Имя ей — узница Петрова. И неважно, что зовут её Надя. Надежда, которая если и умирает, то последней. Каждый раз умирает, оставаясь последней в автобусе, что везёт её к свинцовому заводу. Остальные узники выходят на остановку раньше, а Наде Петровой ехать до конца. До — каждый раз — конца света. Там, у свинцового завода, ни фонарей, ни окон, горящих тёплым домом, жаренной с лучком картошкой, пуховым одеялом с ажурным ромбом по центру. Там ни души.
Не души — воздуха в лёгких и так мало.
Волной катается страх по салону автобуса. Салону… Какой же это салон? Грязный, душащий потом, кровью чьей-то, отхаркнувшейся, однако дышащий слабым морозным воздухом салон. Чулан, куда чья-то уставшая рука ежевечерне сбрасывает десяток людей, словно старые мётлы, в пыльный заброшенный угол. Жизни. Какой салон, такая жизнь.
Надя Петрова — узница на семь минут. Самые страшные семь минут её дня. Каждый раз, когда предпоследняя метла выпадает из чулана, Надя вздрагивает, прикрывает рот, хватает крик рвущийся. Всей пятернёй хватает и держит, лелеет, потому что крик этот — хоть что-то родное и похожее на настоящее, что в Наде есть. Что в Наде осталось.
Оставь — мне совсем немного надо.
Сидит девица в темнице, а душа на улице. На улице небо ясное звёздное. На улице снег в лунном свете блестит так, будто на него некая модница глиттер рассыпала. Будто шла, нет, плыла над снегом, не ступая, и сыпала. Надя держала крик и смотрела на модницу, а модница сыпала и сыпала, затем на Надю оглянулась, подмигнула и исчезла. Надя бы тоже так хотела — плыть, не ступать над снегом, и сыпать. Только песком-памятью, не блеском. Из-за этого песка и блеска не осталось у Нади. Ни в карманах, ни в глазах.