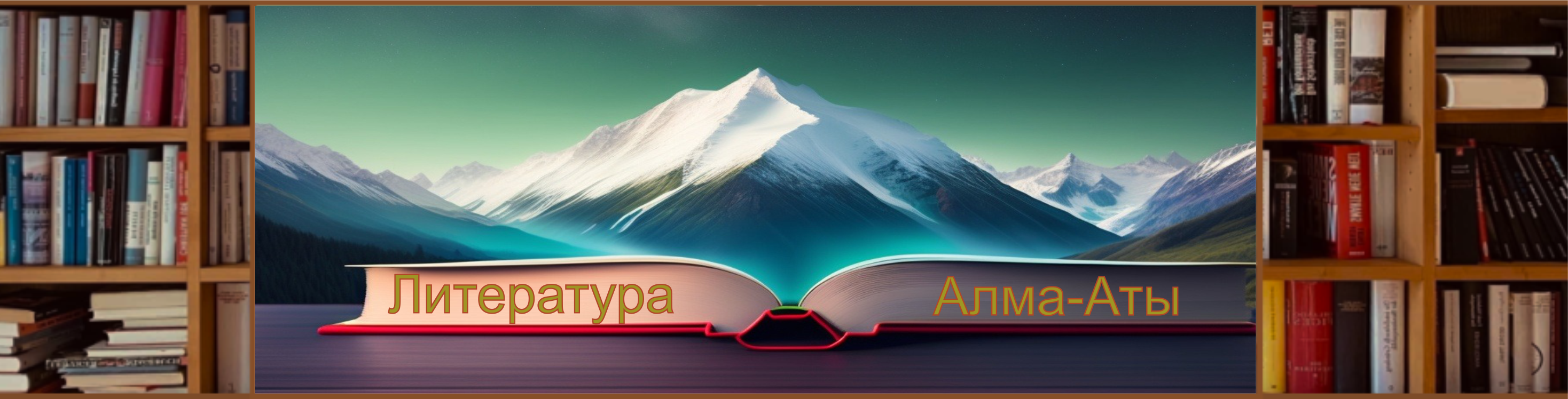Дыхание весны…
(Из вступления к книге «Зелёная тетрадь»)
Когда Булат Окуджава как-то заметил, что его роман, повести, рассказы и, конечно же, стихи и песни, в которых он писал о других людях, всё равно это о нём самом, он, видимо, не помнил, а может быть, и не знал о том, что ещё в 1961 году, когда он только начинал как первооткрыватель нового направления в авторской песне, известная в те времена и несправедливо забытая потом талантливая поэтесса Маргарита Алигер на торжественном обеде, посвящённом встрече Н.С. Хрущёва с писательской общественностью, в своём выступлении высказала крамольную мысль о том, что писательское творчество, особенно поэтическое, вызвано, продиктовано потребностью самовыражения личности, самовыражения и самоутверждения её как основополагающего начала. Об этом я прочла в воспоминаниях В. Тендрякова, опубликованных в «Новом мире». Уже на том торжественном и вкусном обеде М.И. Алигер получила резкую отповедь за то, что посмела утверждать приоритет личности над общественными интересами. И назавтра же по ней хорошо «потоптались» во всех официальных газетах; на долгие годы термин «самовыражение» был исключён из категории литературных определений писательского творчества.
Но за долгую жизнь свою, в том числе и в литературе, я давно поняла, что именно эта потребность самовыражения творческой личности и есть то самое главное и самое важное, что интересует и привлекает читателя в творчестве того или иного прозаика, а особенно поэта. Читателю всегда важно и интересно сверить свои ощущения, своё понимание жизни, тех или иных явлений её с тем, как понимает это любимый поэт, любимый писатель. И именно поэтому, когда я прочла в 1996 году в «Литературной газете» одно из небольших эссе писателя-философа Мигеля де Унамуно, я немедленно выписала из него несколько строчек, показавшихся мне чрезвычайно важными. Вот эти строки: «Уговаривать человека стать другим — всё равно что просить его умереть. Человек всегда стремится сохранить свою личность… Ибо если я становлюсь другим путём нарушения единства и непрерывности своего образа, значит, я перестаю быть собой, а вернее, просто-напросто перестаю существовать. Это-то и страшно. Всё, что угодно, только не это».
Эти строки оказались дороги мне именно тем, что абсолютно точно выразили ту самую потребность самовыражения личности, которая не только составляет смысл всякого, любого творчества, но и помогает человеку оставаться самим собой в нечеловеческих условиях и обстоятельствах.
Именно эта потребность не позволить сломить себя помогла мне в долгие восемь с половиной лет гулаговских «зарешёченных» дорог. И сегодня, когда жизнь снова испытывает меня на прочность потерей зрения, потребность не дать ей сломать душу вызвала к жизни те, порой горькие, строки, которые прорвались сквозь окружившую меня темноту, как некогда прорывались «в строю, в колонне под конвоем…»
***
Лицемерьем не приучена
(как детишки все от веку)
в детстве верила я лучшему
в каждом встречном человеке.
Годы шли. Бедой морозили.
Но доверье — лучший лекарь
— научило драться с грозами
и с безверьем в человека.