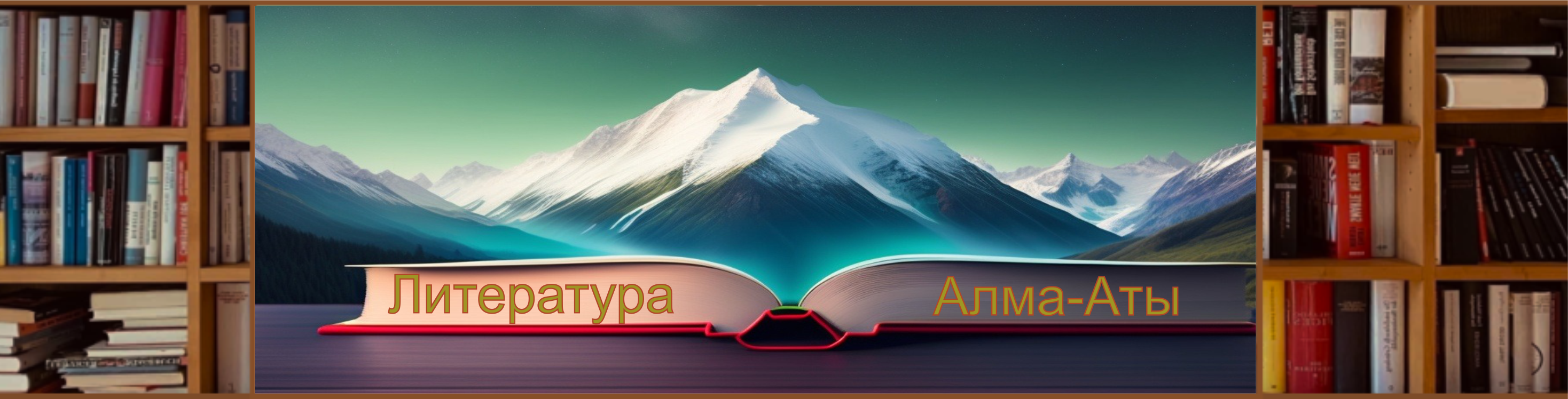И поэзия дальних дорог («В дороге даль земная гложет…»), далёких путешествий (вспомним лирическую миниатюру Жана Бахыта «Кочевая звезда» и его признание «Я кочевник с авиабилетом…») неожиданно сталкивается на страницах книг Канапьянова с ласковой поэзией родного дома (стихотворение «Старый дом»), правда, помнящего и годы тревог, страданий и бед («Был за окнами сталинский тракт…»).
Но мы понимаем: именно в родных степях, рядом с горным ручьем дано поэту услышать не только «музыку неба торжественно и молчаливо», но и тяжёлую поступь времени в масштабах всей вселенной: ушедшего ХХ века и приходящего ему на смену ХХI. Осваивая новую реальность, Жан Бахыт придумывает новые слова, неологизмы: «векзаметр» – «вектор Вселенной», или «компьютодор», чтобы заставить нас задуматься поглубже о том, как на наших глазах «миф вплетается в явь», а «…виртуальный мир, что в мониторе, / витийствует под знаком сатаны».
Так, стихотворение «Земная баллада о космосе», посвящённое Чингизу Айтматову, переносит нас на затерянный в степях перрон крошечной станции Тюре-Там, который проезжает любой поезд, следующий по маршрутам «Москва – Ташкент», «Москва-Ашхабад», «Москва-Алма-Ата». Поэт осторожно нащупывает и помогает нам услышать спрятанную в экзотическом топониме степную музыку: «Тюре-Там…». Рядом с летчиками возникает и старушка-казашка в стареньком платье из хан-атласа, что «прячет смятые деньги в цветистые рукава»: пытающаяся продать на полустанке маленькие дыньки. Бережное внимание к маленькому, простому человеку – ещё одно наследие шестидесятников (сразу вспоминается: «людей неинтересных в мире нет…»).
Пройдет совсем немного времени, и в стихах Жана Бахыта появятся драматические мотивы. Поэт побывает в мёртвой зоне на Припяти (в 1986-1988 годах он – участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС), и ему, как и мудрым организаторам фонда «Невада-Семей», станет ясна неумолимо приближающаяся трагедия казахских аулов, окружающих полигон и обречённых на мучительное молчаливое вымирание. Об этом – «Плач смуглой луны»:
Ночь перед взрывом подземным, знаю,
что скорби полна.
В ночь перед взрывом я вижу
– смуглая плачет луна.
Слезы её золотые в радиоактивном стогу.
Как на рентгеновском снимке аул,
что на том берегу.
Дмитрий Мережковский отнёс бы поэта Жана Бахыта к поэтам «ночного зрения»: почти в каждом его стихотворении мы сталкиваемся с ночным пейзажем или вечерней зарисовкой. И это понятно – в ночи живёт тайна, и её присутствие в стихах поэта – ещё один знак подлинной поэзии.
Работа в кино, учеба на Высших сценарных курсах одарили поэта умением и в стихах оригинально монтировать кадры («В долине таял образ дня, / Рождались тени. / Куст превращался возле пня / В рога оленя»), строить дальний и ближний планы, выписывать лирический сюжет свежо и увлекательно, одной емкой деталью рисовать, деликатно используя цвет, запоминающийся образ: «…и в полумраке белая пелёнка, / Как белый флаг притихшей суеты», «мы впрягаемся в быт / и вертим лебёдку судьбы», «Мелькнула цыганкою в шали / Бездомная муза моя». А по сюжету небольшой поэмы «Кочевница», состоящей из трех разновременных частей, переносящих нас в различные эпохи, вполне можно было бы снять остросюжетный короткометражный фильм.